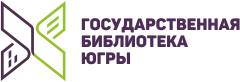Ульяна Саваровская
Мечтала с детства стать врачом, но в последний момент связала свою жизнь с журналистикой.
Увлекается книгами, которые позволяют проводить своеобразные «патологоанатомические вскрытия» сюжета, чтобы понять, почему и как было совершено то или иное действие. Читает детективы, интересуется научно-популярной литературой и психологией, так как любовь к медицине не исчезла, а трансформировалась в глубокий интерес к анализу человеческого поведения.
Предпочтения: Детективы (нуар или триллеры), научно-популярная литература (особенно про мозг и тело), психология (криминальная и общая).
Девиз по жизни: «Воплоти мечту в цель, а цель в реальность»
Книга Мэг Джей, очевидно, не легкое чтение для расслабления. Это литература для самоанализа тех, кому сейчас от 20 до 30 лет. Когда я бралась за нее, ожидала увидеть что-то в духе «как стать успешным за десять лет», но получила куда более глубокий и тревожный анализ.
Главная мысль книги: десятилетие между 20 и 30 годами, которое большинство из нас воспринимает как «время для самопоиска», или, как называет Мэг Джей, «жизнь на черновик», на самом деле является самым главным периодом в нашей жизни. Джей, как клинический психолог, показывает на примерах своих клиентов, что решения, принятые или, что еще важнее, не принятые сейчас, вспомнятся нам годами позже.
Капитал идентичности
На мой взгляд, самой полезной идеей книги является «капитал идентичности (термин впервые ввел социолог Джеймс Коут). Это не накопленные деньги в банке, а сумма наших инвестиций в себя: знания, навыки, профессиональные связи, хобби – все, что формирует нашу личность и жизненный опыт, который принесет максимальную пользу в будущем.
Джей настаивает: в этом возрасте нужно активно накапливать такой капитал. «Личность человека меняется наиболее активно от двадцати до тридцати лет, а не до или после этого возраста. К тридцати годам мозг человека завершает свое развитие». Не нужно сидеть в ожидании идеального момента. Нужно браться за все, даже за то, что кажется не совсем нужным, чтобы получить опыт и сформировать тот самый капитал идентичности. И я задумалась, как часто мы, молодые люди, оправдываем лень или страх фразой «Я еще не нашел себя». Мэг Джей отвечает так: ты и не найдешь себя, ты должен «создать» себя через действия и страх.
Сила «слабых связей»
«Люди, входящие в состав сплоченной группы, могут так и не узнать о том, что на самом деле их жизнь зависит не от того, что происходит внутри их группы, а от факторов, лежащих за пределами их восприятия».
Мэг Джей уделяет много внимания тому, что наш профессиональный рост часто зависит не от близких друзей или членов семьи (сильных связей), а от тех, кого мы едва знаем, например бывшие работодатели, преподаватели и другие люди, так и не вошедшие в наш «клан». Именно эти слабые связи (то есть люди, с которыми мы так или иначе встречаемся или поддерживаем контакты, но не знакомы достаточно близко) приносят самую неожиданную и нужную информацию о вакансиях, идеях и возможностях.
Разговор о главном
«Общество устроено так, чтобы отвлекать людей от решений, имеющих огромное влияние на счастье, для того чтобы сфокусировать их внимание на том, что не поможет им стать счастливыми. Самое важное решение, которое принимает каждый из нас, – с кем мы вступаем в брак. Тем не менее курсов по выбору спутника жизни не существует».
Раздел о любви и отношениях, на мой взгляд, самый острый. Мэг Джей критикует идею, что можно менять партнеров до тридцати, а потом вдруг ниоткуда найти того самого, с которым захочешь построить семью и вступить в брак. Она говорит о «сожительстве по умолчанию», когда люди живут вместе не потому, что хотят создать семью, а потому что пока так удобно.
Смысл не в том, чтобы срочно сочетаться браком, а в том, чтоб осознанно подойти к выбору партнера. Наша вторая половинка – один из главных людей, который либо мотивирует нас расти, либо тянет на дно. Мэг Джей утверждает: не надо бояться говорить о совместном будущем с теми, с кем встречаешься, и не надо тратить годы на отношения, в которых ты заведомо несчастлив.
Мысли после прочтения двоякие.
С одной стороны, книга невероятно мотивирует. Она написана простым языком, с обилием реальных историй клиентов, что делает приводимые аргументы достоверными. Она дает четкие советы: начни работать над собой, разговаривать о будущем с партнером, перестань бояться своих слабых связей.
С другой стороны, книга может вызвать сильную тревогу у читателей, склонных к перфекционизму. Если вам уже 27 и вы только начинаете это читать, можно легко запаниковать. Хотелось бы больше поддержки тем, кто чувствует, что уже все упустил. Иногда создается ощущение, что единственный смысл жизни в 20 лет – это бесконечные достижения.
В заключение хочется добавить: если вы хотите перестать тратить время впустую, но не знаете, с чего начать, «Важные годы» – это хорошая книга для первого шага. Она не изменит вашу жизнь, но даст рекомендации, а главное, мотивацию для того, чтобы это сделали вы сами. Она поможет перестать откладывать все на потом и даст понять, что ваше будущее создается здесь и сейчас.
Книгу можно взять почитать в отделе обслуживания на 3 этаже.
Ответственный за информацию в разделе:
Жернова О.В., заведующий отделом внешних коммуникаций
тел. +7(3467) 33-33-21 (доб. 341)